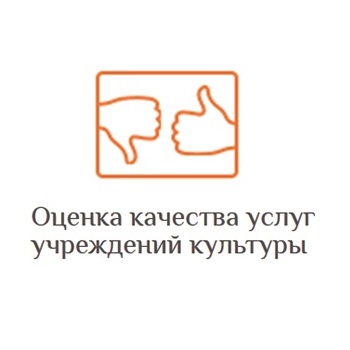В Ярославском Поволжье в XIX – начале XX вв. была сформирована оригинальная фольклорная традиция. Данное утверждение, прежде всего, следует рассматривать в связи с существованием здесь социально-экономической системы, характеризовавшейся отсутствием хозяйственной замкнутости. Наличие отхожих промыслов, развитие торговых и промышленных центров являлись факторами, оказывавшими влияние на возникновение особенностей ярославской фольклорной традиции. Последняя сочетала крестьянское поэтическое творчество и нарождавшийся городской фольклор. Одним из распространенных жанров устного народного творчества русских являлась сказка, которая, не смотря на фантастическое содержание, отражала не только иррациональные знания о мире, но и характер взаимоотношений между людьми, представления о нормах поведения, особенности быта.
Для рассмотрения данного вопроса обратимся к сказке «Марьюшка Чудная»1, записанной С.Я. Деруновым в Пошехонском уезде Ярославской губернии во второй половине XIX в. Приведем ее текст: «В некоторой деревне жила вдова. У этой вдовы была дочка Марьюшка. Такая была девочка Марьюшка, поглядишь, диковинка! Смотрит – глаза точно звездочки светятся, слезинками блистают. А как настанет лето, только и проживает она на речке да в лесу. Зимой бывает такая кручинная, точно больная, с подругами с измалости не водилась, уединение любила. Ну и прозвали ее Марьюшкой Чудной. Выросла эта Марьюшка, а ума-разума точно у ней не прибыло: все молчит да глядит таково жалостливо, точно душу из тебя тянет. Учила Марьюшку мать и тому и сему, и к разному делу приобучала: не понимает Марьюшка, никакое дело ей не дается. За это самое и не взлюбила ее мать, так не взлюбила, что в одно время предала ее проклятию: «Что ты все мои хлебы жрешь? Хоть бы тебя лукашка унес!». С этого проклятия Марьюшка и стала пропадать из дому по целым неделям, ошалела совсем девка. В одно время пришла она домой и говорит матери: «Прости, матушка, замуж иду». Мать ей в ответ: «Разве тебя лукашка берет?». Только таким словом мать и приголубила Марьюшку. Зарыдала Марьюшка, вышла от матери, пошла полем к реке, запела жалобно-жалобно, пришла, села у мельницы к омуту, стала глядеть в воду, рыдать, слезы горькие проливать, в слезах же такие слова выговаривала: «Жених мой, жених званый-жданый, принимай меня, девицу проклятую, безкрестную!».
Вода в омуте помутилась, заколыхалась, из воды вынырнул добрый молодец красоты неописанной, только у молодца вместо ноженек рыбий хвост. Подплыл он к Марьюшке Чудной, взял ее за белые руки, да и нырнул с ней в воду. Так и пропала Марьюшка Чудная»2.
Обратимся к анализу приведенной сказки. Выделим в данном произведении следующие эпизоды: своеобразная «сезонная» жизнь героини, материнское проклятие, появление «доброго молодца» и исчезновение «Марьюшки Чудной». Рассмотрим каждый аспект в отдельности.
Во-первых, обращает на себя внимание странный образ жизни Марьюшки Чудной: летнее времяпрепровождение на реке и в лесу и зимнее «болезненное» состояние. Как показывают материалы по традиционным верованиям русских XIX – начала XX вв., данные черты присущи такому персонажу русской демонологии, как русалка, название которой, однако, в произведении не указывается. На «сезонный» характер поведения названного представителя «нечистой силы», в частности, указывал С.В. Максимов, связывавший поверья о русалке с почитанием душ умерших: «Души умерших, т.е. русалки, суть представители царства смерти, тьмы и холода; поэтому-то с наступлением весны, хотя они и оживают, но обитают все-таки в темных недрах земных вод, еще холодной весною. С Троицына дня русалки оставляют воды и живут в лесах на деревьях»3. Таким образом, по народным представлениям, русалки одну часть лета (до Троицы) проводили в водоемах, а другую – в лесах, что соответствует рассматриваемому фрагменту сказки.
В связи с этим обратим внимание на имя сказочной героини («Марьюшка») и отметим его фонетическое сходство с названиями таких персонажей русской демонологии, как мара, мора, кикимора4. Кроме того, показательно, что в различных жанрах восточнославянского фольклора сходные по звучанию Марина, Марынка являлись собственными именами русалок5. Имя героини пошехонской сказки представлено в уменьшительной форме, что также характерно для личных имен русалок в русском традиционном фольклоре6. Таким образом, приведенные сведения позволяют сделать предположение о мифологическом значении имени героини рассматриваемой сказки.
Обратимся к эпизоду с материнским проклятием. В сказке его произнесение со стороны матери вызвано неумением Марьюшки Чудной заниматься домашними делами. Действительно, как показывают источники по традиционной культуре русского народа XIX-XX вв., отсутствие у подростка трудовых навыков обеспечивало ему плохую репутацию и низкий статус в крестьянском «мире»7. В том случае, когда речь шла о девушке, данное обстоятельство обязательно учитывалось при выходе ее замуж8.
Говоря о мотиве проклятия, отметим, что представления о вредоносности последнего были распространены в различных местах расселения русских в XIX-XX вв.9 Считали, что человек, на которого падало проклятие, исчезал и некоторое время находился под присмотром демона, к которому был «послан»10. В нашей сказке этот демон назван «лукашкой». Под именем «лукашки» или «луканьки» обычно понимался черт или «нечистый дух» вообще11. В данном случае таким «нечистым духом» выступает водяной, который также не упоминается в сказке. Однако на это указывает его внешний вид («вместо ноженек рыбий хвост») и место обитания – мельничный омут, который, согласно народным представлениям, являлся одним из любимых жилищ водяного12. По поверьям, водяной предпочитал всем занятиям топление девушек, купающихся без креста (обратим внимание, что и в сказке героиня называет себя «проклятой» и «безкрестной») и утопленниц, которые становились его сожительницами, превращаясь в русалок13.
Однако эпизод с проклятием в сказке можно представить и в качестве фольклорного обыгрывания такой этнографической реалии, как ритуал инициационного изгнания, который совершался в рамках перехода ребенка из детского состояния в более взрослое14. Отметим, что мотив изгнания родителями детей (в других случаях увода) был распространен в русских народных сказках. В.Я. Пропп, один из первых обративший внимание на данное явление, связывал его с актом посвящения, символизировавшим наступление половой зрелости15. Источники свидетельствуют, что ритуал посвящения нередко представлял собой действительное или инсценированное похищение детей. В этом случае говорили, что их унес «черт» или «дух»16. По мнению авторов, значение этого обряда с течением времени было забыто, и, чтобы оправдать вражду родителей к детям, сказочник вводил в текст сюжет, в котором «изгоняемый» ребенок представлен с отрицательной стороны17, в нашем случае, лишенным способностей к труду.
Авторы, изучавшие данную проблему на материалах русских бывальщин, отмечали изменение облика и поведения вернувшихся из «изгнания» детей: они испытывали «притягательную силу» леса, в который рано или поздно возвращались18. Данная тема обыгрывается и в рассматриваемой сказке: Марьюшка представляется «диковинкой», у нее необычный взгляд и поведение (глаза «точно звёздочки светятся, слезинками блистают», «все молчит да глядит таково жалостливо, точно душу из тебя тянет»); героиня не воспринимает указаний матери-вдовы, а в конце сказки приходит к «луканьке», к которому была «послана».
В данном контексте следует сказать, что понятием «русалка» в русской традиционной культуре обозначали не только демонологического персонажа, но и такую социо-половозрастную категорию крестьянского общества, как просватанная или обрученная девушка19. В этом случае ее исчезновение (смерть) могло трактоваться как инициация – символическая кончина в старом статусе и обретение нового20.
Если предположить, что в изучаемой сказке присутствует данный мотив, то в этом случае произведение обнаруживает несоответствующее расположение эпизодов: описание необычного поведения девушки предшествует сюжету ее изгнания. Вероятно, первоначальная очередность действий должна быть следующей: проклятие и изгнание Марьюшки Чудной к «лукашке» (начало инициации), ее исчезновение (процесс посвящения-перехода), превращение героини в русалку и проведение ею «сезонной» жизни (окончание инициации, постинициационный период). В этой связи проклятая девушка может представляться не получившей родительского благословения на брак, что в случае заключения брачного союза являлось необходимым условием21.
Как показывает анализ источников, русская традиционная свадьба включала добрачный, брачный и послебрачный периоды. Обычно благословение давалось в день венчания, проводившийся с соблюдением всех правил. Утром к невесте приходили подруги, которые «сбирали» ее к венцу и рассаживались вокруг, ожидая приезда жениха и дружки. Роль последнего, главным образом, играл женатый мужчина, знакомый с церемониями свадебного обряда. В том случае, если жених являлся выходцем из другой деревни, то соседи невесты преграждали дружке дорогу, и тот был обязан оделить их вином и пивом, прося пропустить «нареченного князя», то есть жениха. Кроме того, чтобы получить жениху место за столом, дружка должен был выкупить его у «продавца», в качестве которого обычно выступал брат невесты. Процесс «выкупа» чаще всего сводился к отгадыванию загадок, задаваемых «продавцом». Вот пример такой загадки:
«- Давай мне, друженька, что светлее солнца, краше неба звёздного.
- Изволь принимать.
Дружка вынимает из-за пазухи образ и подаёт…»22.
Иногда «торг» занимал продолжительное время. В таком случае, присутствовавшие советовали «продавцу»: «Ну, полно тебе торговать, морить нареченную-то родню. Все ли у тебя приговорки?…
- Ну, ин, спрошу друженьку в останный раз: дай мне, друженька, чего у нашего хозяина в доме нет»23.
После этих слов дружка брал за руку жениха и подводил к «продавцу», который усаживал последнего за стол вместе с невестой. Остальные участники свадебного «поезда» также «выкупали» места за столом у сидящих девушек. Отведав угощение и поблагодарив хозяев, дружка приглашал их благословить жениха и невесту. В то же время благословения просила и сама невеста: «… Благослови-ко меня, кормилец батюшко / И родимая моя матушка / От раденья ретива сердца, / Чтобы жить-то мне не маяться, / На меня бы вам не плакаться. / Ваше-то благословленьецо / Мне дороже злата-серебра, / Я ведь с ним-то, красна девица, / Буду жить до гробовой доски»24. С окончанием данной церемонии дружка отвозил венчающихся в церковь, после чего «молодые» посещали родителей жениха и получали от них благословение25.
Возвращаясь к теме заключения брака без согласия родителей, отметим, что материалы по традиционной культуре русских XIX – начала XX вв. содержат упоминания о свадьбах, совершенных таким способом («убегом», «уходом», «самоходом», «самокруткой», «уводом»)26. Источники показывают, что в ряде мест Пошехонского уезда Ярославской губернии – месте записи сказки «Марьюшка Чудная» – несмотря на уменьшение к концу XIX в. количества похищений невест27, данный обычай продолжал широко бытовать. Приведем его описание: преимущественно в Крещенье (6 января / 19 января) к началу обедни в села Грамматино, Владычное и Никольское, что на Ухтоме на «лучших выездных лошадях» съезжалась празднично одетая молодежь. После освящения воды начиналось катание на лошадях, во время которых молодые люди приглашали «поочередно знакомых девиц прокатиться вокруг села»; «Здесь влюбленные, которым несогласие предмета страсти или, чаще всего, родителей ее препятствует вступить в законный брак, улучив время, отделяются от катающихся и мчатся с новыми сабинянками в дом родителей... Родители девушки иногда в сопровождении целой толпы родни… отправляются в погоню за похитителем, и счастье молодца, если он успеет угнать от преследования: в противном случае не только отобьют невесту, но и самому придется поплатиться за смелое намерение. Но раз девица приведена в дом жениха, чаще всего этим и кончается вся опасность: ни сама она не решится упорствовать, ни родители – взять к себе дочери, бывшей в доме постороннего молодого человека. Дело в большинстве случаев кончается тем, что после свадьбы молодые отправляются на поклон к родителям невесты, падают им в ноги, и само собой, сердце родительское не камень, пожурят, да, делать нечего, и простят виновных»28. Несмотря на распространенность данного образа вступления в брак в XIX – начале XX вв., поступившие так девушки имели пониженный общественный статус29.
Изучая сказку в данном отношении, обратим внимание, что похищение Марьюшки происходит около воды30. Небезынтересно, что об аналогичных реалиях упоминается в «Повести временных лет» при описании обычаев славянского племени древлян: «и брака у нихъ не бываше, но умыкиваху у воды девиця»31. По мнению авторов, «нахождение девушки у воды являлось основным условием правомерности такого похищения»32. В обычаях, в которых присутствует связь свадебных ритуалов и воды, отражены, по-видимому, представления о водных преградах, преодоление которых означало вступление в группу взрослых33.
Интересно, что связь воды и брака прослеживалась и в традиционных гаданиях. В XIX – первой трети XX вв. девушки, чтобы увидеть лицо «суженого», в Святки приходили к проруби или колодцу и, сняв с себя кресты, приглашали к воде «суженых», «чертей», «водяных», «леших», «бесов», «дьяволов». Затем, судя по определенным знакам (колыханию воды, звону колокольчиков, лаю собак, появлению демонологических персонажей), судили о сроках своего замужества34. Обратим внимание, что аналогичные мотивы присутствуют и в нашей сказке.
Подведем итоги. Анализ сказки позволяет говорить о существовании связи между произведением и темой брака. С другой стороны, пошехонская сказка испытала влияние мифологических представлений русского населения данного региона в XIX в. Кроме того, в нашем случае, необходимо указать на существование «межжанровой» связи. Будучи жанром, имевшим главным образом «волшебную» и сатирико-бытовую направленность, сказка не содержала ярко выраженного мифологического сюжета. Между тем, можно констатировать связь сказки «Марьюшка Чудная» с таким жанром повествовательного несказочного фольклора, как бывальщина – рассказом, нередко включавшим «сказочные» обороты и основанном на необычном, но достоверном происшествии.
- Некоторые положения настоящей работы были опубликованы нами ранее. См.: Киселев А.В. Сказочный фольклор русских Ярославской губернии в XIX – начале XX в. // Век нынешний, век минувший… Вып. 2. Ярославль, 2000. С. 31-35.
- Дерунов С.Я. Сказки Пошехонского уезда // ТЯГСК. 1868. Вып. 5. С. 154.
- Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб.: ТОО «Полисет», 1994. С. 89.
- Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза: истоки и полисемантизм образов. Т. 1. Былички, бывальщины, легенды, поверья о духах-«хозяевах». Спб.: Наука, 2001. С. 175.
- См.: Садовников Д.Н. Сказки и предания Самарского края. Записки ИРГО по отделению этнографии. Т. XII. Спб., 1884. № 124; Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии. Умершие неестественной смертью и русалки. М.: Изд-во «Индрик», 1995. С. 306. Ср. наименования демонологических персонажей в поверьях других европейских народов: «Марушка-пумпарушка», «Марина», «Марея», «Мария», «Мархва». См.: Судник Т.М., Цивьян Т.В. К реконструкции одного мифологического текста в балто-балканской перспективе // Структура текста. М.: Наука, 1980. С. 281; Невская Л.Г. Пестрое в балто-славянском: семантика и типология // Фольклор и этнографическая действительность. Спб.: Наука, 1992. С. 94.
- См.: Померанцева Э.В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М.: Наука, 1975. С. 79.
- См.: Тульцева Л.А. Религиозные верования и обряды русских крестьян на рубеже XIX и XX веков (по материалам среднерусской полосы) // СЭ. 1978. № 3. С. 31-46; Громыко М.М. Мир русской деревни. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 107-108; Листова Т.А. Трудовое воспитание в крестьянской среде // Православная жизнь русских крестьян XIX-XX веков: итоги этнографических исследований. М.: Наука, 2001. С. 194.
- Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. М.: Наука, 1986. С. 108.
- В качестве примера приведем следующее сообщение: «Еще в деревне, когда в лес ходили. Все говорили, что одну девицу мать прокляла, и она ушла в лес. И люди видали ее и зимой и летом. Потом пришла к матери эта девица, и она [мать] ее простила…». Архив автора. Информант В.И. Куропаткина, 1913 г.р., уроженка д. Лисино Харовского района Вологодской области. Запись сделана в с. Макарово Ростовского района Ярославской области 19 августа 1999 г. Ср.: Завойко Г.К. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии // ЭО. 1914. № 3-4. С. 100, 164; Быт великорусских крестьян-землепашцев. Описание материалов этнографического бюро кн. В.Н. Тенишева (на примере Владимирской губернии). Спб.: Издательство Европейского дома, 1993. С. 125.
- ГАЯО. Ф. 230. Оп. 5. Д. 471. ЛЛ. 64 об.-65. Сходные представления бытовали и в более ранний период. Так в «чуде» Прокопия и Иоанна Устюжских о Соломонии Бесноватой (XVI в.) говорилось о «девке Ярославке», живущей под водой у водяных бесов. Как сообщает источник, Ярославка была проклята: мать «отдаде» девушку бесам сразу после ее рождения. Интересно, что в одной из редакций «чуда» Ярославка непосредственно названа русалкой. См.: Пигин А.В. Народная мифология в северно-русских житиях // ТОДРЛ. XLVIII. Спб., 1993. С. 332.
- Балов А.В. Народный говор в Пошехонском уезде Ярославской губернии // ЖС. 1893. Вып.4. С. 511.
- Максимов С.В. Указ. соч. С. 79.
- Там же. С. 89.
- И.А. Морозов считает, что данный тип проклятия можно рассматривать как одну из формул ритуального отречения родителей от посвящаемого. См.: Морозов И.А. Отрок и сиротинушка (возрастные обряды в контексте сюжета о «похищенных» детях) // Мужской сборник. Мужчина в традиционной культуре. М.: Лабиринт, 2001. Вып. 1. С. 65.
- См.: Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки // Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 1998. С.150. Ср.: Коровина Н.С. Отражение обряда посвящения в фольклоре коми-пермяцкого народа // Религия и церковь в культурно-историческом развитии Русского Севера (к 450-летию Преподобного Трифона, Вятского Чудотворца). Материалы Международной научной конференции. Киров, 1996. Т. 2. С. 149.
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки… С. 178. Как показывают материалы по традиционным верованиям различных этносов, «дух» – это одно из существ, которое может совершить инициацию. См.: Тендрякова М.В. Еще раз о социально-исторической «прародине» личности // Одиссей. Человек в истории. 1995. М., 1995. С. 135.
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки… С. 177.
- См., например: Криничная Н.А. Указ. соч. С. 144.
- См.: Морозов И.А. Женитьба добра молодца: происхождение и типология традиционных молодежных развлечений с символикой «свадьбы» / «женитьбы». М.: Государственный республиканский центр русского фольклора; Изд-во «Лабиринт», 1998. С. 235. В этой связи в сказке «Марьюшка Чудная» обращает на себя внимание отсутствие у героини подруг и ее одиночество. В то же время известно, что пошехонские крестьянские девушки «лет с пятнадцати» начинали «невеститься», то есть «принимать участие в увеселениях взрослой молодежи». Балов А.В. «Посиденки», «беседы», «свозы». Из этнографических материалов, собранных в Пошехонском уезде // СК. 1899. 27 января (8 февраля). С. 3. Рассматривая на материале северно-русских былин мотив затворничества девушек, В.Я. Пропп объяснял его возможным предназначением девушки кому-либо в жены в будущем. См.: Пропп В.Я. Русский героический эпос. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1955. С. 409.
- Морозов И.А. Женитьба добра молодца… С. 235. В этой связи вызывает интерес мнение М.Н. Власовой о существовании в древности обрядов, разрушающих проклятье замужеством. Власова М.Н. Русские суеверия. Спб.: Азбука-классика, 2001. С. 434.
- См.: Громыко М.М., Буганов А.В. О воззрениях русского народа. М.: Паломник, 2000. С. 349; Листова Т.А. Народный православный обряд создания семьи // Православная жизнь русских крестьян… С. 9.
- Дерунов С.Я. Крестьянская свадьба в Пошехонском уезде // ТЯГСК. 1868. Вып. 5. С. 122.
- Там же. С. 124.
- Там же. С. 127
- Там же. С. 127.
- Ср.: Липинская В.А., Сафьянова А.В. Свадебные обряды русского населения Алтайского горного округа // Русский народный свадебный обряд. Исследования и материалы. Л.: Наука, 1978. С. 186; Кузнецова В.П., Логинов К.К. Русская свадьба Заонежья: конец XIX – начало XX в. Петрозаводск: Издательство Петрозаводского государственного университета, 2001. С. 255-259.
- См.: Дерунов С.Я. Село Козьмодемьянское Щетинской волости Пошехонского уезда // ЯГВ. неоф. ч. 1890. 3 июля. С. 3.
- Ильинский Я. Увод. Современный народный обычай Ярославской губернии // ЯГВ. неоф. ч. 1898. 28 января. С. 3. Интересно, что о свадьбе «уводом» в Пошехонском уезде Ярославской губернии исполнялась следующая песня: «Во глухую во полночь / У вдовы пропала дочь, / По всем горницам пустилась: / Во горнице ее нет. / Ей навстречу молодец: / «Не плач, не плач, вдовушка, / Не пропала девушка. / Она тихо [у]ведена, / Во карету сажена, / Шестерочкой везена, / В Божью церковь введена» (Там же. С. 3.). Обратим внимание, что настоящее произведение и сказку «Марьюшка Чудная» объединяет тема исчезновения дочери у вдовы, что может указывать на распространенность данного мотива в регионе.
- См.: Торгов А. «Заклад» (из народных обычаев в Пошехонском уезде Ярославской губернии) // ЖР. 1904. Т. 1. С. 646. Ср.: Морозов И.А., Слепцова И.С., Островский Е.Б. и др. Указ. соч. С. 322; Громыко М.М. Мир русской деревни… С. 96, 99;
- Известно, что еще в начале XIX в. молодые люди, выкравшие невесту без ее воли, требовали согласия на брак, находясь около проруби. См.: Ильинский Я. Увод… С. 3. Отметим, что последователи ряда старообрядческих безпоповских толков, большое количество которых сосредоточилось и в Пошехонском уезде Ярославской губернии, заключали браки у водоемов. См.: Дмитриевский В. Современный раскол в Ярославской епархии и борьба с ним. Ярославль, 1892. С. 79; Прокофьева Н.В. Старообрядчество Верхнего Поволжья в конце XVIII – начале XX вв.: Дис. … канд. ист. наук / Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. Ярославль, 2001. С. 220;
- Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI – начало XII века. М., 1978. С. 30.
- См.: Зорин Н.В. Русский свадебный ритуал. М.: Наука, 2001. С. 154.
- См.: Еремина В.И. Историко-этнографические истоки мотива «вода – горе» // ФЭ. У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. Л.: Наука, 1984. С. 198. О воде как границе см. также: Успенский Б.А. Дуалистический характер русской средневековой культуры (на материале «Хожения за три моря» Афанасия Никитина) // Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 385.
- Смирнов В.М. Народные гаданья Костромского края (очерк и тексты) // Труды КНОИМК. Четвертый этнографический сборник. Вып. XLI. Кострома, 1927. С. 63, 66, 68, 71; Крылова Н.Д. Гадательные обряды в системе народного календаря Вятского календаря // Религия и церковь… Т. 2. С. 158. Померанцева Э.В. Указ. соч. С. 142. О роли воды в гаданиях о замужестве см., например: Виноградова Л.Н. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской календарной обрядности (западно- восточнославянские параллели) // СБФ. Обряд. Текст. М.: Наука, 1981. С. 20.